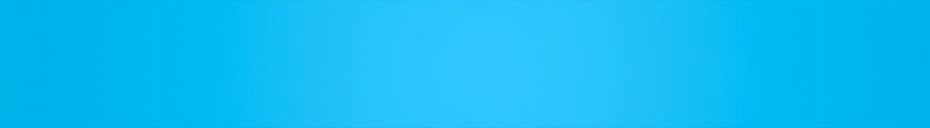Эмиль идёт по лесу.
Его несёт шелест, камни, шелест и земля. Эмиль идёт по лесу с закрытыми глазами, вытянув руки в стороны. Эмиль дышит – макушкой, носом, ртом, ладонями, – пытаясь перенести через тело всё, что можно перенести дыханием, и, пожалуй, ещё немного. Эмиль идёт по лесу – слепой, уязвимый, открытый к удару, – и не помнит уже, как сделал тот самый первый, самый страшный свой шаг.
Но он помнит другое.
***
Приехал в парк рано – в полдень или в половине первого. Кое-как припарковался, вышел, подошел к деревянной будке, в которой можно было купить входной билет, заглянул в окошко. Плотному мужчине со светлыми, как лён, глазами, был рад как родному: ну вот, живой человек сидит, я что-то сделал правильно, не совсем дурак!
Смотритель при виде нового посетителя тоже просветлел лицом и что-то спросил, но Эмиль только головой покачал: английский, русский, хотя бы немецкий? Я не знаю литовского, может быть, пока не знаю, простите, но вот так. Мужчина не смутился и стал на очень сложном русском – было слышно, как редко он на нем говорит, – объяснять про парк, цены и правила поведения (правил нет, ходить можно где угодно, хоть до самой темноты), а потом прервал сам себя на полуслове: «У нас прямо здесь работает художник, познакомить?» Не дожидаясь ответа, вышел из будки и пошел в лес по боковой тропе. Эмиль пожал плечами, не заставил себя ждать – зовут, ну, значит, надо идти.
Вышли на небольшую, залитую светом поляну. Эмиль повертел головой: в глаза бросались разбросанные по земле булыжники с выведенными на них незнакомыми красочными иероглифами. Что это, интересно, руны? Похоже на то.
– Я сам частенько сюда прихожу, – сообщил смотритель, проследив за его взглядом. – Помедитировать.
"Помедитировать", – повторил про себя Эмиль и захотел улыбнуться.
Ещё несколько дней назад он ничего не слышал про парк Европы. Понятия не имел, что совсем недалеко от литовской столицы есть большой лес, который на самом деле музей под открытым небом. Знать не ведал про художников со всего света, решивших запрятать в этом лесу десятки своих лучших работ, да вообще не представлял себе внутренним зрением, как могут уживаться природа и искусство. Хотя саму идею музея, конечно, находил интересной. Теперь вот приехал и уже не удивлялся ничему.
"Почему бы не медитировать, – подумал Эмиль. – Где ещё медитировать, как не здесь и сейчас?"
Прямо перед ним высилось девять каменных столбов высотой в три человеческих роста. В центре их круга стоял чугунный котел, в небо из котла поднималась серая струя дыма. Эмиль проследил за ним взглядом – дым искривлялся как лента, уходил вбок. Это было красиво. Потом он подошел поближе к самой экспозиции. «Алтарь, – сразу догадался Эмиль, разглядывая столбы, – настоящий всамделишний алтарь. Маленький литовский Стоунхендж». Чему посвященный или для чего построенный - вот что хотелось бы узнать.
Рядом со столбами сидел на корточках низкий седой мужчина лет шестидесяти в серой кепке, черном комбинезоне и желтых рабочих перчатках. В руках художник (это же был он?) держал небольшое ведерко, в котором тщательно и сосредоточенно смешивал строительный раствор.
Смотритель парка подошел к нему, что-то сказал на литовском, указал рукой на Эмиля. Художник поднял взгляд. У него было самое обычное, ничем не примечательное лицо, но абсолютно такие же светлые, как у смотрителя парка, лукавые глаза. Братья они, что ли?
- Го-ости, – с улыбкой сказал художник. Он тоже явно давно не говорил по-русски. – Откуда же вы такой... приехали к нам? В наши непростые времена?
Эмиль чуть не расхохотался. "Да-да! – едва не сказал он. – В непростые, чумные наши времена! В эпоху чертового апокалипсиса! Я сумел, дьявол вас побери, я прорвался! Вот он я! Приехал!"
Но как-то взял себя в руки.
- Из Баку, – сказал, помешкал. – Вернее, из Германии сейчас прилетел. Много лет уже живу в Мюнхене. Но родился я, правда, вообще в... Да блин! – оборвал себя на полуслове, повторил твёрдо. – Из Баку.
– Из Баку-уу, – с улыбкой повторил художник, и голос его прозвучал тепло. Он встал, кивнул в сторону «алтаря» и ответил на незаданный вопрос. – Это символ единства всех литовцев. Языческий альтарь, защищенный литовскими рунами. Раньше такого делать нельзя было, а теперь уже можно. Я давно хотел. Но никто никакой помощи мне не предоставлял, никакое государство или человек! Я всё сам, всё сам, – обиды в его голосе не было, только ехидство.
– Здорово как, – честно отозвался Эмиль. Литовские руны, вот оно что. Сам мог бы, конечно, догадаться.
Художник взглянул на него цепко и заявил:
– Раз вы из Баку, надо провести ритуал.
С этими словами он взял из ведра с раствором лопатку с изогнутой рукояткой, стянул перчатку с левой руки и протянул Эмилю. – Оставьте здесь немножко своей солнечной энергии в обмен на удачу. Вот цемента моего нанесите на во-от тот столб, – он подмигнул, – и мысленно загадайте желание.
"Ну всё, – иронично подумал Эмиль, послушно взяв из его рук лопатку с перчаткой. Даже не дернулся, почти не удивился. – Вот я и нашел работу в разгар апокалипсиса. Теперь заживу".
А вслух ответил серьёзно:
– Спасибо. За чем-то таким сюда и приехал.
Не соврал – действительно приехал сюда за чем-то таким. Хотя сам ещё утром не смог бы сформулировать, почему взял и уехал из Вильнюса, куда прилетел вопреки немецкому карантину. Да, не смог бы сказать, зачем утром так спонтанно арендовал автомобиль, полчаса общался с навигатором, двести раз раздраженно спрашивал себя, на черта ему эта головная боль, может ну её в пень. Потом долго ехал куда-то, всё время опасаясь свернуть не там, и всё это время радовался собственной смелости: я смог, я справился, я не совсем ещё пропал!
А ведь виной всему добросовестная сотрудница компании, через которую он арендовал в Вильнюсе квартиру. Как настоящий географический кретин, Эмиль сначала долго не мог найти нужную улицу, а потом полчаса возился с хитрым замком ведущей в подъезд двери. Всё это время дружелюбная девушка Алиса висела с ним на телефоне и терпеливо объясняла, что два плюс два равно ключ лежит в сейфе справа от двери, сейф открывается через код, да, именно через тот, что мы прислали, да-да, он точно правильный, может, вы попробуете ещё раз?
Жутко был ей благодарен и немедленно попытался загладить вину милой болтовней по переписке, в ходе которой сразу узнал много интересного про местные достопримечательности, литовские озёра и вот про парк Европы. «Очень советую туда съездить, если у вас будет время! – бодро печатала сообщения девушка Алиса, пока он с удовольствием осматривался в своей большой, светлой квартире. – Там волшебно и очень тихо, можно отдохнуть и спрятаться от городской суеты».
Спрятаться, точно. Вот чего я хочу.
Теперь Эмиль стоял посреди леса перед каменным столбом и бессмысленно водил лопаткой между булыжниками. Ни одной годной мысли в голове не появлялось. Вообще ни одной. Смотритель парка уже успел куда-то испариться, зато художник продолжал терпеливо стоять за его спиной и болтал о себе, не отвлекаясь, кажется, даже на дыхание.
– Пришел я в администрацию президента, ждал, значит, ждал в приемной, спокойно сидел, вы-но-ос-ли-во, потом оттуда девчонка вышла и спросила: "Вы кто такой?" "Вы кто такой?" – говорит! "Да я никто, – отвечаю. – Художник! Проект решил начать, для Литвы, для народа, не для себя!" "А это ни с кем не обсуждали, – говорит, – никто вас не знает, финансирования не будет, идите лучше, вы нам не нужны". "Да мне всё равно, – говорю, – я из любопытства пришел, из интереса. Я всё сам сделаю, без вас, мне не нужно..."
«Дай мне сил, – сказал Эмиль мысленно. Сказал, обращаясь сразу ко всему: к полю, алтарю, деревьям, к земле, на которой сейчас стоял. – Пожалуйста, дай мне сил. На всё, что есть, на всё,что ещё будет, много сил, пожалуйста. Мне очень нужно, правда, поверь, просто дай мне сил, пожалуйста, пожалуйста, я прошу».
Очень тебя прошу.
***
Эмиль шел по лесу.
Воздух пах мхом, хвоей и ещё глиной. Вокруг не было ни души, ни одного живого человека. Зато предметы искусства теперь появлялись на каждом шагу. Вот высокий каменный старик задумчиво смотрит вдаль, приложив руку к сердцу. А вот тонкий железный самолетик ярко мерцает на мшистом холме, будто зовя забраться наверх и рассмотреть поближе. Эмиль вертел головой, стараясь ничего не упустить, не спутать искусство с самим лесом. Он даже не знал, что именно запрятано в уголках этого музея. Не читал имен художников, не просматривал каталоги с названиями их работ, просто взял и поверил незнакомому человеку на слово, когда тот сказал, что здесь будет хорошо. Когда-нибудь, конечно, это нужно будет исправить. Да, когда-нибудь он уделит целое утром тому, что сядет за стол, откроет вебсайт и внимательно, шаг за шагом пройдётся по всему списку имен людей, оставивших в литовском лесу свои дары. Но сейчас, сегодня Эмиль осознанно предпочитал вообще ничего не знать. Только ходить и смотреть. Без планов.
- Мне кажется, я приехал сюда спастись, – громко сказал он вслух.
Этому трюку его когда-то научила Трина – говорить вслух. «Видимо, никому пока в голову не приходит, что с духами леса можно просто общаться словами, – однажды заявила она ни с того ни с сего. – Стоим всю жизнь рядом, как в рот воды набрав, болваны. Со слухом-то у них получше, чем у людей – это просто мы дураки».
И тон у неё при этом был больно категоричный.
Трина жила в Риге. Лучшая подруга, названая старшая сестра, сумасшедший художник, недавно открывшая свою школу рисования онлайн, о которой мечтала всю жизнь. Собралась и запустила всё, наконец, прошлой осенью, буквально за минуту до грянувшей чумы – такая вот молодчина. "Ну ты как чувствовала, – иногда говорил ей Эмиль, который помогал с разработкой платформы". "Конечно, чувствовала", – каждый раз беззаботно отвечала Трина. Подумаешь, делов-то – подгадать, когда грянет эпоха перемен. Нечего и говорить.
Дела у неё теперь действительно шли хорошо, учеников было много, и о каждом из них Трина могла без умолку болтать часами. Застряв в Мюнхене во время весеннего карантина, Эмиль частенько звонил ей по зуму, просто чтобы услышать одну из этих смешных историй и посмотреть на её выражение лица. Нечасто такое увидишь.
«Сюда приезжать не надо, – честно сказала она пару недель назад, когда они в очередной раз созвонились. – Я сейчас почти не человек, постоянно занята, уроки даже по ночам – многие ребята живут в Америке. Ни на что другое у меня нет сил. Приедешь – упаду, наверное, расплачусь, так и сдохну перед тобой на полу. А если не сдохну, то просто буду много молчать. Тебе от этого веселее не станет и я тогда ещё больше расстроюсь. Понимаешь? А вот к соседям лети обязательно. Это не Рига, но лучшее, что может быть после неё».
Согласен, подумал тогда Эмиль. Да и какая разница, куда лететь, лишь бы здесь не оставаться. Зря что ли границы в Европе открыли.
Несколько часов спустя у него на руках был билет, а неделю спустя он уже засыпал в Вильнюсе – впервые за много лет.
***
Вокруг него росли сосны, уходящие ветвями в небо, тонкие березы с потемневшей корой, крупные осины с круглыми, ярко-зелёными листьями. Проходя мимо, Эмиль дотрагивался до листьев внешней стороной ладони, словно прикасался к ладони старого друга, которого давно не видел, но всё равно любил.
С неба на землю лился вниз мягкий свет; он делал тишину более вязкой. Иногда Эмиль сворачивал куда-то по наитию (круглая качеля с подушкой внутри! «Колыбель для кота». А вот здесь у нас каменный трон, почему бы на него не сесть?) или переставал идти и стоял, пока вокруг едва слышно трещали птицы, шуршали насекомые, бегали мелкие зверьки. Эмиль чувствовал... спокойствие. Боль совсем не ушла, но и бежать больше никуда не хотелось.
– Я не от чумы спасаюсь, если что, – наконец, заговорил он, глядя себе под ноги. – Не от страшной болезни этого года бегу, хотя, конечно, дико рад, что здесь можно просто ходить и свободно дышать, как нормальному человеку. Ты даже не представляешь, что это значит.
Говорил, пожалуй, с лесом – сразу со всем.
– Год у меня был ужасный, – сказал Эмиль. – Не только этот, а последние, наверное, пять. Или шесть. Вот как весёлые университетские дни закончились и началась взрослая жизнь, так и понеслось. Но осознал я это полностью действительно только сейчас. Как в четырех стенах всех заперли, так и заметил, какой вокруг ад.
– Ну как ад, – он пошел дальше. – Ничего такого ужасного со мной, наверное, не происходит. Я здоров. Работа есть и довольно хлебная, жилье тоже. Отличное, кстати, жилье, в самом центре Мюнхена, совсем недалеко от реки Изар. Хожу к ней часто, как только могу, и даже когда нас совсем на ключ запирали, ходил. Это меня и спасло.
Эмиль замолчал. Он был рад, что вокруг не было людей – можно было не опасаться показаться идиотом и нести всё, что придёт в голову.
– Мюнхен очень хороший город, живой и добрый. Близких друзей я там не нашел, но это ничего о городе не говорит. Только обо мне. По-хорошему, давно надо было менять работу и уезжать, но я не решился. В нашем дурацком человеческом мире с его визами, разрешениями на работу и прочей бумажной ерундой... Ну я просто не смог. Всегда был какой-то не тот момент, надо было ещё чего-то подождать, вытерпеть, дождаться получения очередной бумажки. Я и терпел. Да до сих пор терплю, честно сказать, хотя до сияющей свободы совсем уже немного осталось. Поздравь меня.
Сказал и сам рассмеялся над своими словами «сияющей свободы». "Как высоко я, оказывается, ценю словосочетание «немецкий паспорт» – подумал он. Но действительно видел его получение так – как освобождение, вольную, чистый свет звезды.
– В общем, жить в нелюбимом месте c нелюбимой работой мрачно. Нет, не то чтобы мне совсем не нравится программирование – нравится, только вот пять лет разрабатывать системы для проведения соцопросов без возможности уйти – это... скажем, угнетает, – усмехнулся.
Свет вокруг стал совсем прозрачным, как стекло. Мелкие пылинки, плывущие в воздухе, были повсюду – справа, слева, над головой, – и стали напоминать крошечных живых существ, слившихся в вальсе перед его лицом. Эмиль подошел к ближайшей пушистой берёзе, в ветвях которой путались солнечные лучи, запрокинул голову, поймал один луч взглядом, как свисающую с небес ленту, и попытался дотянуться до него рукой. Луч света немедленно пронзил его ладонь насквозь, сделал её прозрачной. Эмиль замер. Немного спустя плавно провёл ладонью вправо, влево. Как будто пытался раствориться в этом свете. Незаметно для всех.
– Проблема не в том, что я заскучал на работе, – он с неохотой опустил руку и увидел, как та мгновенно обрела плотность и цвет. – Такое, прямо скажем, случается со всеми, кроме совсем уж редких счастливчиков. Нет, хуже всего другое. Я совсем перестал петь.
Он сам понимал, что поворот вышел неожиданным, поэтому какое-то время испытывал стыд рассказчика, не зная, как продолжить.
– Всегда чувствовал себя живым, только когда пел, – переборол себя Эмиль. – Даже не то чтобы живым... это как-то слишком банально. Когда я пел... ну, я был как бы совсем собой, понимаешь? Тем, кем всегда должен был быть, для чего вообще родился на этой земле. Мне это ещё лет с пятнадцати было ясно, когда в музыкальной школе учился. И талант у меня, наверное, тоже был. Но я всегда думал, что у меня ещё куча времени, знаешь? – он снова усмехнулся. – Какие-то другие были приоритеты. Надо было одно успеть, третье, десятое. Переехать, устроиться, обрести самостоятельность, доказать любящим восточным родителям, что я уже взрослый и не нуждаюсь в опеке, пережить десяток скандалов на эту тему, настоять на своём, потом со всеми помириться, немного спокойно пожить, не жениться ни на одной из предложенных кандидатур, пережить новый скандал, потом второй, третий... – он хохотнул. – Короче, куча важных дел было. Не забалуешь. Но всё равно хотел родных чем-то порадовать, – признался. – Неосознанно хотел – они ведь ни о чем таком не просили, вообще никогда. Но я одним прекрасным утром проснулся и решил – хорошо, вот получу тут паспорт, сдам пару неприятных экзаменов, поступлю в престижный американский университет и стану крутым менеджером. Буду грести деньги мешками, все дороги будут передо мной открыты, да и папа с мамой порадуются. В общем, взял и всё сам придумал – и про их счастье, и про своё. Так заморочился ещё на пару лет.
– Да, я совсем идиот, – пожал плечами. – Бедные мама с папой.
Поднялся легкий ветер – он прошелся по верхушкам деревьев и немного потревожил нижние ветви и листья кустов. Эмиль смотрел, как весь лес мелко дрожит на ветру; казалось, лес смеётся и смеётся над ним. Правильно делает.
– Нет, один раз в прошлом году я попробовал записаться на курсы вокала, – сказал он. – Нашел отличную преподавательницу, фольклорную певицу. Даже на первое пробное занятие сходил и был в полном восторге, но когда дело дошло до серьёзных шагов – записаться на курс, регулярно на него ходить, заниматься, уделять этому время – вдруг осознал, сколько это требует сил, и понял, что надо выбирать: или готовиться к экзаменам для грядущей учебы в крутом универе, или петь. Надо было выбирать. Я колебался несколько дней, да и свернул всю вокальную тему, – Эмиль прикусил губу, как подросток, вспоминая те дни. – Так и заявил преподавательнице: «Это сейчас совсем не вписывается в мою жизнь».
Сказал:
– Как сам себя проклял.
Он вышел на большую дубовую поляну. В нескольких шагах от него лежали крупные, заросшие мхом камни, на которые сквозь ветви деревьев лился голубоватый сумеречный свет. Вокруг стало, казалось, больше тишины. Эмилю захотелось обернуться, он глянул через плечо и увидел, что на поляне не так уж пусто: за его спиной находился небольшой квадратный «домик», сложенный из закругленно обрезанных ветвей деревьев. По высоте «домик» доходил ему до пояса, а внутри него, как за тюремной решеткой, уютно красовался сложенный кучей динамит. На металлической табличке было написано имя автора и название: «Автопортрет».
Эмиль хихикнул. Сначала нервно, как подросток, потом уже истерично, как псих. Кажется, его троллили. "Да, да, – признался он мысленно сквозь хохот. – Всё это я! Снаружи – ветви и гвозди, внутри – динамит, того и гляду взорвусь, не останется от меня ничего, достойного спасения!"
Ничего не останется.
И Эмиль побежал.
Толстые корни деревьев переплетались под ногами, превращались в змей, пытались обвить за щиколотки, но он успевал вырваться и продолжал нестись дальше. Так казалось. Мир вокруг сливался в сплошной неразличимый зеленый туман, и откуда-то Эмиль знал, что нельзя останавливаться, нельзя пытаться рассмотреть происходящее в статике, ни с коем случае, ни за что. Мыслей в голове долго не было. Вообще никаких. Постепенно стало тяжело дышать, но он старался не обращать внимания. "Черт с ней, с болью, черт с ним, с этим телом. Всё, что я могу сделать не так, я давно сделал, терять мне уже нечего".
Остановился, только когда упал. Споткнулся о ветку и рухнул в кучу каких-то листьев и лужу грязи; еле успел оттолкнуться ладонями от влажной, черной земли. Отстраненно, ещё не чувствуя боли, увидел, как на землю упали несколько капель крови. Ага, нос, видимо, разбил. А, ну и ладно. В остальном, кажется, цел.
Поднялся, вытер кровь рукавом, посмотрел на свой грязный рукав и на размазанные полосы крови на ткани, и вдруг сказал вслух:
– Я был влюблён.
Звук собственного голоса показался Эмилю неприятным. Хриплым, как голос зверя, который впервые жизни попытался заговорить. А ещё Эмиль почувствовал стыд. Словно всё, что собирался сказать дальше, было недостойно того, чтобы делиться этим с целым лесом. Это ведь была какая-то мелкая бытовая ерунда, история разбитого сердца почти тридцатилетнего мальчика, никогда не знавшего в жизни лишений. Самому не смешно, нет? Может, заткнешься?
Но он не смог:
– Мы познакомились где-то год назад, в гостях у общих друзей в Гамбурге. Это, если что, на противоположенном конце Германии. Далеко. Когда я её увидел... – он попытался подобрать менее пафосное слово, но все равно сказал... – меня пронзило. Как подростка. Она оказалась крутым математиком, преподавателем Людвигского университета и ещё поэтессой. Читала нам свои стихи в перерывах между беседой, срывала аплодисменты, никого и ничего не стеснялась. И знаешь что? Я, кажется, до сих пор нахожуюсь в той квартире и слушаю её стихи. Даже сейчас.
Эмиль поднял глаза и увидел очередную скульптуру – огромную медную человеческую голову. Вместо ушей, глаз и рта у медной головы были крупные проемы, а круглый рот был приоткрыт в крике. Она лежала на боку. Будто человек без тела решил приложить к земле ухо. Эмиль подошел ближе, снял с плеча сумку. Положил рядом с собой и тоже лёг на землю. Сначала на спину, затем перевернулся на бок, чтобы оказаться с головой лицом к лицу. Лежал так какое-то время, прежде чем продолжить:
– Она была намного старше меня. Ну сильно намного, лет на семнадцать. Я об этом, правда, тогда особо не думал. То есть думал, конечно, – заботливые восточные родители, помнишь, – но в итоге отбросил все переживания, потому что перестал видеть в них смысл. Ну да, сложная история. Только легко у меня в любви никогда не было, и что теперь бояться? Нельзя бояться, когда весь твой мир раскалывается на части от звука чего-то голоса, это я точно знаю. Даже сейчас. В общем, я забил. И немедленно с ней подружился. А со временем сумел её убедить, что со мной можно не только дружить. Я, знаешь, умею быть обаятельным. Да и не то чтобы я прилагал много усилий или навязывался. По крайней мере, так мне казалось.
Слова уходили в землю, как капли воды. Чем дольше Эмиль говорил, тем больше ему казалось, что звуки собственного голоса проходят через его тело насквозь и выходят как чужеродные организмы: всасываются в камни, в траву, в почву под ней, во всё, к чему он прикасался. Когда это происходило, Эмиль испытывал невероятное, невозможное чувство, о существовании которого успел забыть.
Облегчение.
– Но я ошибся, – тихо сказал он. – Когда начался чертов карантин и стало невозможно перемещаться даже внутри страны, мне стало... не до того. Первый месяц точно. Поэтому я не сразу заметил, что что-то сломалось. Но не во мне, правда. Она стала реже звонить, на сообщения отвечать через раз, а на все мои предложения добраться до неё с приключениями вежливо отшучивалась. Да, возвращалась потом, извинялась, убеждала, что дело не во мне и вообще это ничего не значит. Мне смешно было тогда: вот, оказывается, как чувствуют себя страдающие девочки, когда Тот Самый мальчик с ними не разговаривает! Я сам стал такой девочкой. Но думал: ну ладно, всё-таки апокалипсис, все его по-разному переживают. А пару месяцев спустя, – предупредив, конечно,- всё же сумел прорваться к ней на север страны. Чувствовал себя при этом таким героем! Вернувшимся в Итаку Одиссеем, никак не меньше, – он рассмеялся. – А несколько дней спустя, как раз когда я рассказывал какую-то ерунду про свой героический прорыв и строгих немецких кондукторов, она взглянула на меня по-доброму, с настоящим таким искреннем умилением и сказала очень мягко: «Я хочу дружить».
Стоило ему повторить эти слова, преследовавшие его дольше, чем следовало, как Эмиль почувствовал, что они оторвались от него, вырвались с силой. И ушли. Очень боялся, что не уйдут. Слова горели огнём на нёбе, опустились к горлу и вышли наружу с мощным толчком, как выпущенные из тела стрелы. Отпустили его. Да, Эмилю было ещё, что сказать, как продолжить эту историю. Он мог рассказать, как опешил, как сильно переживал... но остановился, сдержал себя. Понял каким-то шестым чувством: здесь предел. Дальше отдавать будет нечестным, и так уже слишком много отдал.
Какое-то время Эмиль ещё лежал на боку, молча глядя в пустые глаза медной головы, потом поднялся, стряхнул с себя землю и пошел.
Стало темнеть.
Эмиль не знал, куда идти, чтобы попасть обратно к машине. Хотя, честно сказать, не спешил возвращаться. Темноты он не боялся лет с двенадцати, с тех пор как понял, что чудовищ можно отогнать звуком собственного голоса, а в самом Вильнюсе его сейчас никто не ждал. К тому же, смотритель парка сразу дал понять, что оставаться в лесу можно допоздна, так почему бы нет? Других людей он за весь день так и не встретил, но был уверен, что какие-то смельчаки вполне могли оставаться здесь ночевать. Вряд ли смотритель с художником бегают за нарушителями по всему музею и выволакивают их отсюда в четыре руки.
Фыркнул.
Из тонкого и прозрачного свет постепенно становился синим, густым. Эмиль отхлебнул воды из фляги, которую нес в сумке, и боковым зрением заметил, что проходит мимо скульптуры медного странного существа с головой коня. В том, что было руками, существо держало веретено, а остаток его туловища напоминал плохо скрепленный медный скелет. Эмиль немного поглядел на него, прежде чем пойти дальше. Вскоре он наткнулся на движущиеся по часовой стрелке металлические скульптуры в форме изогнутых вовнутрь листьев ясеня – эти штуки почему-то напомнили ему ядовитых кобр пустыни, кружащихся в танце дервишей. Красиво.
Но остановился Эмиль, только когда увидел перед собой огромный, покрытый мхом валун, по форме похожий на человеческое сердце. Художник, превративший камень в искусство, тоже обратил внимание на его необычную форму: «сердце» было насквозь пронзено крупным металлическим шурупом. Разбито? Эмиль усмехнулся, сделал пару шагов вперед. Взгляделся.
Чем дольше он смотрел, тем больше ему хотелось произнести слова, которые причинили бы боль. И чем дольше он ждал, тем сложнее было заговорить.
– Я называл его Феб, – сказал Эмиль. И не позволил своему голосу сорваться. – Феб «Солнце», – продолжил он. – Так он сам называл себя в пятнадцать лет, когда мы познакомились в сети на литературной ролевой игре по вампирскому «Маскараду». Скромностью он, как видишь, не страдал. Я сам даже не помню свой ник, помню только, что Феб сразу стал звать меня «Миля». «Милый» или «любимый» на его родном латышском. Ему это казалось дико забавным, а меня, как ни странно, почти не раздражало. Ну, в отместку я просто обращался к нему «джан», «душа моя» по-азербайджански. И не просто «джан», нет, я ещё и фамильярно так гласную растягивал. Джаа-ан, – Эмиль рассмеялся.
– Так мы и росли: Феб – в Риге, я – в Баку. Два книжных червя, пытавшихся быть крутыми ролевиками, великими выдумщиками, певцами и сообщниками. Феб быстро стал мне не просто другом. Названым братом. И знаешь что? – Эмиль всё ещё не шевелился и смотрел прямо на камень. – Будь у меня родной брат, я бы не смог любить его сильнее. Ни за что. Когда мы подросли, стали друг друга навещать. Так часто, как могли. Когда Феб впервые приехал в наши края, вышел на мой балкон и увидел Каспий, он заорал. Я тогда даже испугался. Серьёзно, до сих пор помню тот ор. Я только позже понял, что это от восторга. – Эмиль улыбнулся, вспоминая ту сцену.
– А потом Феб взял и запел. Знаешь, как он пел? – спросил Эмиль у камня, у леса, у всего мира. – Как никто не свете. Даже она так не могла. Никто не мог. Поверь мне на слово.
Эмиль прекрасно помнил, что это была за песня. Laiks, «Время». Позже, уже много лет спустя, он прослушал всю латышскую рок-оперу «Kaupēn, mans mīļais!» целиком, но предпоследнюю песню, Laiks, "Время", всегда осознанно пропускал. Не мог иначе.
– Несколько лет спустя, когда я уже жил в Германии, в Риге мы познакомились с Триной. Сходили на одну из её выставок в Старом Городе, пришли в полный восторг, там же подскочили к строгой художнице, чтобы познакомиться, и, конечно, заболтали её полностью. Остались с ней в галерее уже после закрытия, помогли убрать всякий хлам, сидели потом вместе на полу до четырех утра, пили белое вино и ели имбирное печенье пипаркукас. Как раз перед Рождеством дело было. – Эмиль улыбался. – С тех пор дружили втроем. "Сила Трёх!" – шутили мы. Два голоса и кисть. Союз трех великих волшебников.
Трина первой заметила, что что-то не так. Может, потому что они с Фебом жили в одном городе. Позвонила мне в начале марта и прямо сказала: "Слушай, Фебу совсем нехорошо, он третий месяц не приходит на встречи, не отвечает на сообщения, через раз поднимает трубку, а когда я прихожу его навестить, делает вид, что никого нет дома. Но я же знаю, что есть".
– Я тогда очень испугался, – сказал Эмиль. – Феб-то и раньше впадал в анахорейство, особенно когда расставался с девушками, которые всегда были любовью всей его жизни. Но постепенно такое стало происходить всё чаще и без видимых причин. Он просто брал и пропадал на месяц или два, а потом возвращался, просил у нас прощения, отшучивался, говорил: "Старею, никого не хочу видеть, да все хорошо со мной, забейте". И, честно сказать, я частенько забивал. Не хотел быть назойливым. Мы с Триной оба не хотели – понятно же, что у всех нас своя какая-то отдельная индивидуальная жизнь, которую целиком с друзьями не разделишь, даже самыми близкими. Но в то же время мы просто... ну как объяснить? чувствовали, что это не просто хандра. А как ему помочь, не знали. Не насильно же к врачу тащить, правда? Хотя, может, и следовало. Конечно, следовало.
Не договорил. Физически ощутил, как сжимает горло, зажмурился, закашлял и кашлял до тех пор, пока глаза не стали влажными. Открыл сумку, вынул бутылку с водой, отпил ещё глоток, чтобы успокоиться. Слёзы вытирать не стал.
– В общем, я сразу после того разговора купил билет в Ригу. Но не улетел, потому что из-за работы долгий отпуск взять быстро не получилось. Германия. А потом... – Эмиль пожал плечами, – ну что потом. Билет у меня был на двадцать первое марта, а семнадцатого Германия практически закрыла воздушные границы. И тогда я принял самое глупое решение в своей жизни – послушаться и подождать с отлетом. "Болезни страшные по воздуху летают, - думал я. - Мало ли что может случиться? Мои-то родители живут в Баку и здоровы, а у Феба отец - диабетик. Ну ничего же не произойдет, если я ещё месяц подожду? Трина, опять же, в Риге. Всё будет хорошо".
– Двадцать первого марта я никуда не улетел, – сказал Эмиль, сосредоточившись на том, чтобы просто сказать. – А первого апреля Феб повесился. Такой шутник.
Сказал и замолчал. Потом медленно, очень медленно сел на землю. Какое-то время так сидел, пока не закрыл ладонями лицо и не заплакал, нет, завыл, как ребенок. Ни говорить, ни рассказывать ничего больше не мог: ни о том, как месяц потом не выходил из дому даже за продуктами, ни о том, как не нашел в себе силы поехать на похороны, и уж точно ни том, как месяц спустя Трина прислала ему вещи, которые Феб оставил у себя в квартире, подписав коробку ручкой «для Миля». Какого черта! Коробку даже не открыл. Ненавидел мертвого Феба всем сердцем, не мог простить. Чертов инфантил! Так злился, что до этого самого дня ни с кем о нём толком не говорил, даже с Триной. Только намёками, полуфразами, а открыто – никогда. Ей было хорошо – новая работа, ученики, школа, некогда убиваться. А он, наверное, и за несчастную любовь свою гамбургскую так цеплялся, чтобы можно было страдать по какому-то другому, нормальному поводу, по обычному живому человеку. Не-мертвецу.
Когда немного успокоился, было уже очень темно. А когда вдруг запел любимую песню Феба – сначала невнятно, потом громче, – сам себе не поверил. За три месяца, что Феба не было на свете, даже думать не мог о пении, просто вычеркнул это свойство из своей памяти, как несуществующую ложь. А теперь он, Эмиль, сидел на литовской земле, в непроглядной лесной тьме, замерзал и пел своему мертвому другу его любимую азербайджанскую песню «Yalgızam yalgız» Рашида Бейбутова. «Одинок я, одинок».
Знал откуда-то, что, если Феб и услышит его, то только сейчас и больше никогда. Не в этой жизни точно. Никогда ещё ничего так четко не понимал.
Könlüm sənin əsirin, qəlbim sənindir, yar,
qəlbim sənindir...
Мое сердце, милый друг, у тебя в плену, яр,
У тебя в плену.
Почему не хочешь ты на меня взглянуть, яр,
на меня взглянуть?
Ты капризен и беспечен, но не забывай, -
Красота, мой друг, не вечна, ею не играй.
Готов был поклясться, что кто-то опустился рядом на землю, когда прозвучал первый куплет. Сел близко, прислонился спиной к его спине. Эмиль узнал и это тепло, и прикосновение: ни с чем не смог бы его спутать ни в этой жизни, ни в следующей. Но вместо того, чтобы в ужасе заорать или обернуться, крепко зажмурил глаза – так крепко, как только мог.
Голос мой зовет, яр, голос мой зовет.
Одинок я, мое сердце с тобой встречи ждет.
Ты капризен и беспечен, но не забывай, -
Красота, мой друг, не вечна,
Ею не играй.
***
Эмиль идёт по лесу.
Его несёт шелест, камни, шелест и земля. Эмиль идёт по лесу с закрытыми глазами, вытянув руки в стороны. Эмиль дышит – макушкой, носом, ртом, ладонями, – пытаясь перенести через тело всё, что можно перенести дыханием, и, пожалуй, ещё немного. Эмиль идёт по лесу – слепой, уязвимый, открытый к удару, – и не помнит уже, как сделал тот самый первый, самый страшный свой шаг.
Но он помнит другое.
Например, почему решил идти по лесу слепым. Да потому что понял, что это был единственный способ уйти от камня-сердца живым. И не потому что мёртвый друг, притянутый голосом, пожелал ему зла – конечно, нет. Просто Эмиль осознал, что незаметно для себя потревожил то, с чем и разговаривать не умел, а уж смотреть этому нечто в глаза – и подавно.
Эмиль идёт по лесу, пытаясь стать частью чего-то, что больше него. Он отлично знает, что любой его шаг может стать последним. Неверный поворот, пропущенный удар сердца, скользкий камень под ногой, и та сила, что всегда стоит за левым плечом, положит ладонь ему голову. В то же время Эмиль знает, что любой верный ход ненадолго сделает его для леса своим, защитит, скроет от опасности. От тех, кто идёт за ним.
Эмиль борется с ужасом. И, чтобы не умереть от него, шепчет всему лесу:
– Ты для меня столько сделал, столько всего забрал. Пожалуйста, не надо. Как бы сильно ты ни пугал, я не хочу бояться. Не заставляй меня.
Сухие ветки с хрустом ломаются под его ногами; кочки, кусты и камни бросаются под ноги, сбивают шаги, замедляют их. Удивительно, что он ещё цел.
– Сказать честно, – говорит Эмиль громче, с упорством маньяка не открывая глаз, – ты самый красивый лес из всех, что я встречал.
И не врёт.
– Gözelim, yargözelim, – он поёт, сам не веря, что ещё помнит слова этой песни. – Красивый мой, прекрасный.
Красивый мой, прекрасный,
Взгляни же на меня,
Я здесь стою, несчастный,
Взгляни же на меня.
Он не открывает глаз, но видит, не опускает рук, но ощущает тепло подушечками пальцев. Он по-прежнему слеп, но знает, что лес слышит его, слышит и отпускает; вот лес почти закончился, остался позади.
Эмиль не гадает, куда же пришел. Просто делает первый шаг, затем второй, третий. Наверное, ему сейчас следует дать себе больше времени, прежде чем решиться открыть глаза и посмотреть вживую.
Но он решается сразу.
Ночью алтарь единства литовского народа выглядит иначе. Если смотреть на него, расфокусировав взгляд и прищурившись, можно увидеть, что у девяти каменных столбов есть глаза и уши, которые глядят прямо на тебя, как мифические великаны. Если не испугаться и продолжить смотреть, можно осознать, что и костер в центре, ещё днём казавшийся тлеющим котлом, тоже живой: поёт высоким женским голосом и упирается фиолетовыми языками пламени в самое небо.
Эмиль так устал, что не может вести себя как нормальный человек. Не может кричать, не может сходить с ума от ужаса. Он смотрит на костер и болезненно щурится, смотрит на великанов и не чувствует страха; шатаясь, он подходит поближе, падает им под ноги и отпускает себя.
***
– Тот, кто приходит сюда спастись, спасается силой своего намерения.
Такой знакомый голос. Эмиль делает попытку разлепить веки, но без толку; глаза открываются, но мир вокруг остаётся тёмным и рассыпчатым, как мокрый песок.
– Это ничего, – усмехается голос у самого уха. – Не напрягайся, а то снова в обморок грохнешься. Итак уже сегодня всё из себя выпустил, что смог. Шутник.
Эмилю тяжело сосредоточиться, но, кажется, он действительно узнаёт говорящего. Яркий свет льдистых глаз пробивается к нему даже сквозь дым и темноту – и Эмиль узнает.
– Попросить сил – это было правильное решение, – произносит уже кто-то другой. Тоже знакомый. – На такие просьбы мы всегда отзываемся. А вот с валуном ты зря связался. Он мрачный парень. Чуткий народ обычно от него подальше держится, так, поглазеет немного и дальше бежит. А ты из всех артефактов именно ему всё выложить решил, да ещё и спел. Не жирно будет? Вот чем тебе кобры не понравились? Они бы все твои слова тут же наверх вынесли, а не в себя впитали. Не просто так кружатся. Я даже думал, тебя спасать придётся.
– Оставь ребёнка в покое, – насмешливо отвечает художник. Теперь все слова даются ему легко или Эмиль просто понимает язык, на котором с ним говорят. – Зато сердечко ему вернули на пару минут. Чем не награда? Хорошо же спел, рожа наглая. – И обращается к Эмилю доверительно. – Девчонкам ты тоже страшно понравился. Ну, девчонкам только скажи, что они красавицы, сразу тают. Жаль, что люди не догадываются рот открыть и комлимент сделать. Ты – редкий зверь.
Эмиль чувствует, как на его макушку опускается тяжелая, горячая ладонь. Он дергается и орет, потому что это больно. Эмиль вопит и пытается вырваться, но он слеп и, кажется, бессилен. Крепкие руки уже держат его за ноги и руки, а строгий голос художника над его головой говорит:
– Ну-ну! Успокоился. Слепым мимо девчонок прошел, а теперь вопишь. Потерпи, мы для тебя стараемся.
Но Эмиль не может успокоиться. Ему страшно, как не было никогда, даже совсем недавно, там, одному в лесу. Ужас стекает с его макушки, ужас катится по рукам, ужас гложет туловище, заливает ноги. Эмиль хочет, чтобы всё это прекратилось, только бы прекратилось, только бы прекратилось, пожалуйста!
Кто-то молча касается рукой его руки. Кто-то третий.
Эмиль узнает и, дернувшись в последний раз, замирает.
– Ты ведь тоже сделал для нас невозможное, – спокойно произносит смотритель парка. – Подарил нам песни, которые здесь никогда не могли бы прозвучать. Мы давно, очень давно живем, а даже не знали, что такое бывает на свете. Такое здесь ещё никто не пел – ни этим языком, ни духом. Понимаешь? Дар требует дар – закон Гебо. Такой долг, как у тебя, мало кому удается отдать, но тебе удалось. Мы тебя спасли, а ты сделал нам равный подарок.
Эмиль ничего не понимает, ему, честно сказать, всё равно. Ему очень страшно: горячая лава продолжает накрывать – нет, не тело, – всё его существо, и Эмиль скулит от ужаса, становится маленьким, крошечным, как зерно.
– Ладно-ладно, – говорит первый голос, но уже без насмешки. – Ещё чуток потерпи, а завтра будет новая жизнь. Это я обещаю.
Третий гость не говорит ничего, но начинает петь.
Yaraliyam, deyme, deyme...
Ранен я,
не тронь меня,
не тронь меня.
Ветви сердца моего,
не сломи во мне,
не сломи во мне.
Мир в голове Эмиля разносится на краски. Теперь он алый, как маки, нет, рыжий, как глина, или желтый, как охра. Луч света, который Эмиль пытался поймать руками днём, сам на него ложится сверху, кладет голову ему на грудь. Эмиль видит – открытыми глазами – как из его сердца вырывается стая ослепительно белых птиц, но куда они держат путь, увидеть уже не успевает: его мир голубой, как озеро, нет, синий, как океан.
...когда огонь приливает от ступней к макушке, как волна к скале, когда его глаза наливаются светом розовым, как апрельский рассвет, когда тело растворяется вовне, как мираж в пустыне, Эмиль окончательно превращается в пену, уходит в землю и теряет себя.
***
Он просыпается, когда небо начинает светлеть.
Какое-то время в голове нет ни воспоминаний, ни мыслей, ни образов, одна белая туманная пустота. Когда он находит силы подняться, то с отстранением замечает, что сумка ещё при нём. Тянется, чтобы проверить: кошелёк на месте. И ключи. Это, кажется, важно. Да?
К парковке он идёт, кажется, целый час. Хотя она совсем близко, буквально в двух шагах. Ещё издали замечает, что капот машины покрыт мелкими бусинками росы, блестящими на свету, как россыпь бриллиантов. Он смотрит на них и думает: "как красиво".
Эмиль подходит к машине и вместо того, чтобы открыть дверь и сесть за руль, кладёт ладонь на россыпь мерцающих бусин. Влага, проникающая в кожу, заставляет ещё немного проснуться, а ветер, коснувшийся век, вдруг приносит воспоминания о том, что было вчера.
Это было только вчера.
Не убирая ладони с капота, Эмиль медленно оборачивается и смотрит на горизонт.
Там вдали, где небо сливается с землёй, одна из другой появляются тонкие розовые прожилки рассвета. Он не отводит от них взгляда до тех пор, пока сквозь облака, как краски сквозь ткань, не начинают проступать огромные воздушные шары. Красный шар, желтый, голубой, синий. Один, три, пять, семь.
Эмиль смотрит на десятки новых солнц, восходящих над его головой.
И улыбается.